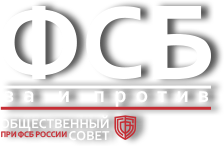14.04.2017
Владимир и Серафима Золотухины: «В памятнике важна его художественная ценность»
В 2016 году первая премия конкурса ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации в номинации «изобразительное искусство» была присуждена скульпторам Владимиру и Серафиме Золотухиным, авторам архитектурно-скульптурной композиции «Защитникам рубежей Отечества – пограничникам» в городе Краснодаре.
– Владимир Николаевич, Серафима Витальевна, как родилась идея композиции?
 Владимир Золотухин: Идею установки памятника защитникам рубежей Отечества Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю пробивало несколько лет. Когда мы узнали об этом, предложили свой вариант. Тогда это были три фигуры: спецназовец времен Афганской войны (я как раз незадолго до того поставил памятник воинам-афганцам в станице Выселки), боец Великой Отечественной и солдат в стилизованной форме XVIII века, напоминающей и о войсках Суворова, который построил у нас Кубанскую кордонную линию, и о Петровской эпохе. Наш эскиз понравился тогдашнему мэру Краснодара Владимиру Лазаревичу Евланову (ныне – депутату Государственной Думы), он даже поставил его у себя в кабинете. Наконец, 17 февраля 2007 года Департамент архитектуры и градостроительства объявил конкурс на лучший эскизный проект памятника «Доблести воинам-пограничникам », в котором мы приняли участие.
Владимир Золотухин: Идею установки памятника защитникам рубежей Отечества Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю пробивало несколько лет. Когда мы узнали об этом, предложили свой вариант. Тогда это были три фигуры: спецназовец времен Афганской войны (я как раз незадолго до того поставил памятник воинам-афганцам в станице Выселки), боец Великой Отечественной и солдат в стилизованной форме XVIII века, напоминающей и о войсках Суворова, который построил у нас Кубанскую кордонную линию, и о Петровской эпохе. Наш эскиз понравился тогдашнему мэру Краснодара Владимиру Лазаревичу Евланову (ныне – депутату Государственной Думы), он даже поставил его у себя в кабинете. Наконец, 17 февраля 2007 года Департамент архитектуры и градостроительства объявил конкурс на лучший эскизный проект памятника «Доблести воинам-пограничникам », в котором мы приняли участие.Серафима Золотухина: К тому времени определилось, что памятник будет поставлен в сквере на улице имени В.Н. Мачуги, который в связи с этим был назван сквером Пограничников (первоначально предполагалось ставить его в другом, не очень удачном, месте и даже заложили там камень). Раньше это была просто зеленая зона в микрорайоне гидростроителей, которую хотели застроить высотными домами. но жители возмутились, обратились к своему депутату Владимиру Копачеву и с его помощью отбили эту территорию.
Сейчас городские власти признали сквер особо охраняемой природной рекреационной зоной и активно его благоустраивают: поставили фонари и скамейки, разбили клумбы, на дорожках и у памятника положили плитку.
В.З.: В жюри конкурса входили представители администрации города, деятели искусств, а также представители Черноморско-Азовского Пограничного управления береговой охраны ФСБ России. Если бы не эти офицеры, нашего памятника бы не было.
С.З.: Конкуренты предлагали различные авангардные варианты, и когда обсуждался наш проект, один из членов комиссии, сам скульптор, сказал: «ну что вы так традиционно, давайте лучше что-нибудь современное». Но ему возразил подполковник – пограничник (теперь он полковник). Думаю, именно его великолепное выступление на тему, что, собственно, такое современное искусство, нас и спасло.
– А как три фигуры превратились в пять?
В.З.: По ходу работы эскиз усовершенствовался. Во многом благодаря пограничникам, которые нас направляли. Не командовали, а просто высказывали какие-то свои пожелания. например, полковник-пограничник (он сейчас в запасе), который также был в конкурсной комиссии, предложил включить в композицию Илью Муромца как первого защитника рубежей Отечества и покровителя пограничных войск. В процессе добавились еще моряк, который охраняет морские границы, и линейный казак – казачество издавна защищало границы России. Эти две фигуры мы придумали сами, комиссия их только утверждала. А спецназовец преобразился в пограничника с собакой. Но на конкурс мы представили их в виде не круглых скульптур (скульптура, осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством. – Прим. ред.), как сейчас, а горельефов («высокий рельеф», вид скульптуры, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину объема. – Прим. ред.). То есть это была увенчанная российским гербом шестигранная стела с горельефами на пяти гранях. В общем, такое решение было принято из экономии: ведь наши конкурсы устроены таким образом, что в них выигрывает самый дешевый проект. Я этого не понимаю, ведь памятник должен быть произведением искусства, важна его художественная ценность, а не стоимость работ и материалов. Как же можно отдавать победу тому или иному проекту не потому, что он – лучший, а потому, что он на копейку дешевле остальных?! Мы же не на базаре!
С.З.: Если так рассуждать, можно просто камень с надписью поставить – это уж точно будет дешево. Словом, мы сделали макет стелы с горельефами в натуральную величину, 2,20 метра…
В.З.: И нам они не понравились. Мы сделали новый макет, уже с круглыми скульптурами. Я обратился к генерал-лейтенанту Чередниченко: «Федор Борисович, гулять так гулять! Денег на скульптуры нет, но ведь и на горельефы их не хватает. Давайте попробуем! Зато, если получится, будет настоящий памятник» – «Ну, давайте!».
 С.З.: Когда он нас, так сказать, благословил, мы начали постепенно одну за одной делать фигуры: варить каркас, прокладывать его глиной… Скульптор ведь как работает? Сначала делаются маленькие эскизики, сантиметров 10, для макета. Потом делаются эскизы побольше и большой макет. Причем увеличивать один к одному нельзя, ты сохраняешь общий облик, но все детали прорабатываешь заново. В маленьком эскизе тебя такое положение руки устраивало, в большом ты видишь, что оно не передает движения. Каркас разбирается, что-то подрезается, переваривается, ищется нужное положение. через такие поиски проходили у нас все фигуры.
С.З.: Когда он нас, так сказать, благословил, мы начали постепенно одну за одной делать фигуры: варить каркас, прокладывать его глиной… Скульптор ведь как работает? Сначала делаются маленькие эскизики, сантиметров 10, для макета. Потом делаются эскизы побольше и большой макет. Причем увеличивать один к одному нельзя, ты сохраняешь общий облик, но все детали прорабатываешь заново. В маленьком эскизе тебя такое положение руки устраивало, в большом ты видишь, что оно не передает движения. Каркас разбирается, что-то подрезается, переваривается, ищется нужное положение. через такие поиски проходили у нас все фигуры.В.З.: Иначе они получаются мертвыми.
С.З.: А нам хотелось, чтобы они были живыми! В общем, когда наш скульптурный цех посетил мэр, он, посмотрев на нашу работу, макет и эскиз, сказал, что это, конечно, лучше, чем первоначальный проект…
В.З.: И спросил, сколько это будет стоить. Я ответил, что в два раза дороже, на что Владимир Лазаревич сказал: «Хорошо, будем думать». И он привлек нам спонсоров.
С.З.: Изготовление скульптуры стоит дорого. Нужны материалы, нужны деньги на аренду цеха, на отопление, на оплату работы сварщика и т.п. на это уходили все средства, сами мы три года работали фактически бесплатно. К счастью, в 2011 году мы поставили памятник чернобыльцам Кубани, получили какие-то деньги.
В.З.: Благодаря чему наши фигуры выросли до трех метров (улыбается).
С.З. Мы же чувствуем пространство, если стела и скульптуры недостаточно высоки для него, они не будут смотреться.
В.З.: Нас за это упрекали: «Раз вы на такую громадину замахнулись, вот и делайте! Поставите – тогда и заплатим».
С.З.: Но у нас установка – платят нам, не платят, мы все равно работаем: это же наш проект, наша идея. Мы все сами сделаем, только дайте возможность! Вот, прислали из департамента архитектуры и градостроительства архитектора (считается, что скульптор должен обязательно с архитектором работать)…
В.З.: Так он представил такой эскиз, что в Пограничном управлении посмотрели и сказали: «нет, такого нам не надо, ваш эскиз лучше». И мэр так же сказал.
С.З.: Мы больше всего переживали не за то, заплатят нам или нет, а за то, чтобы удалось сделать работу, чтобы она не осталась в глине. И только в 2015 году нам, наконец, дали добро на литье. Городская администрация заключила договор с литейным заводом, при мэре была создана рабочая группа…
В.З.: Я раза три заседал с ними вместе и сказал: нам срочно надо начинать литье, иначе мы ничего не успеем. Напугал их (смеется).
С.З.: Вообще мы надеялись, что успеем открыть если не к 9 мая (к тому времени фигуры уже были отлиты), то хотя бы ко дню пограничника 2015 года. Но строительство затянулось, в апреле только приступили к бетонным работам. Но благодаря активному участию администрации города во главе с нашим тогдашним мэром Владимиром Лазаревичем Евлановым и его помощником, ныне мэром Краснодара, Евгением Алексеевичем Первышовым (он был куратором данного проекта), при содействии главы Карасунского внутригородского округа Николая Алексеевича Хропова строительные работы пошли полным ходом, и в результате памятник был открыт 4 декабря, в день храмового праздника Отдельного корпуса пограничной стражи Российской империи.
В.З.: Открытие прошло очень торжественно, присутствовали мэр города Владимир Евланов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, начальник Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю Юрий Звирык, который в своем выступлении назвал наш памятник единственным и уникальным в России, отметил, что он увековечивает заслуги и подвиги воинов-пограничников всех эпох, помогает восстановлению связи времен, непрерывности нашей истории.
– Вы говорили, что в ходе работы над памятником сотрудники пограничного управления высказывали свои пожелания. Можете рассказать подробнее?
 В.З.: Например, когда у нас еще были горельефы, пришли ветераны Пограничного управления и сказали, что собака должна быть слева от пограничника. А мы по художественным соображениям не могли поставить ее слева, потому что тогда она перекрывала бы ноги пограничника, фигура получалась как бы перерезанной. Зато когда мы сделали круглую скульптуру, эта проблема решилась сама собой, и мы все сделали правильно. еще забавный момент: один офицер высказывал предложение, чтобы я с него лепил Илью Муромца (улыбается). у меня большой опыт портретов, я еще в 80-е годы лепил года три ветеранов Великой Отечественной, героев Советского Союза, сделал около 50 работ. но здесь мне важно было создать не индивидуализированные, а обобщенные образы, которые были бы при этом чем-то объединены, связаны между собой. Однако совершенно неожиданно для меня пограничник с собакой получился похожим на полковника из Пограничного управления, который часто приходил к нам, курировал эту работу. Видимо, я смотрел на него и непроизвольно придавал скульптуре его черты. Заметил это, когда она была уже готова. А моряк оказался похож на одного моего родственника, участника Великой Отечественной войны, который сам был матросом. Тоже не специально получилось.
В.З.: Например, когда у нас еще были горельефы, пришли ветераны Пограничного управления и сказали, что собака должна быть слева от пограничника. А мы по художественным соображениям не могли поставить ее слева, потому что тогда она перекрывала бы ноги пограничника, фигура получалась как бы перерезанной. Зато когда мы сделали круглую скульптуру, эта проблема решилась сама собой, и мы все сделали правильно. еще забавный момент: один офицер высказывал предложение, чтобы я с него лепил Илью Муромца (улыбается). у меня большой опыт портретов, я еще в 80-е годы лепил года три ветеранов Великой Отечественной, героев Советского Союза, сделал около 50 работ. но здесь мне важно было создать не индивидуализированные, а обобщенные образы, которые были бы при этом чем-то объединены, связаны между собой. Однако совершенно неожиданно для меня пограничник с собакой получился похожим на полковника из Пограничного управления, который часто приходил к нам, курировал эту работу. Видимо, я смотрел на него и непроизвольно придавал скульптуре его черты. Заметил это, когда она была уже готова. А моряк оказался похож на одного моего родственника, участника Великой Отечественной войны, который сам был матросом. Тоже не специально получилось.С.З.: Но фактически нам никто ничего не указывал, мы сами себе были самыми строгими критиками. Знаете, сколько раз переделывался Илья Муромец? даже наши коллеги изумлялись: «ну что ж вы?! Все же было готово! зачем же вы все сломали?!». А я отвечала: «Вот там было не так, вот тут не так и еще в этом месте не так!». А раз ты видишь, что не так, раз тебе это не нравится, значит, ты должен это переделывать.
В.З.: Мэр как-то сказал, что это даже хорошо, что работа шла так долго, зато у нас созрел настоящий памятник. А так поставили бы сразу и потом сами были бы недовольны.
С.З.: Мы не любим работать быстро, нам хочется спокойно, не спеша делать добротную скульптуру. И чтобы никто не командовал (улыбается). Работали над фигурами до самого последнего момента. Вот идет формовка, приехала бригада форматоров, профессионалы с литейного завода, которые снимают формы под литье. И пока они с одной фигурой работают, Володя смотрит на другую и говорит: «ногу надо чуть подвинуть». Раз – и подвинул. А я иду следом и прорабатываю форму, прорабатываю складки – и боюсь, что не успею. Напряжение было очень сильное. Потом литейщики ушли, Володя смотрит на оставленные ими формы и говорит: «знаешь, вот у этого надо ухо чуть-чуть передвинуть». Мы берем тоненькую проволоку, срезаем ухо, чуть передвигаем его… и обрабатываем порошком графита, чтобы форматоры не заметили (смеется). Они же, когда форму снимают, все графитят, чтоб воск не приставал. Потому что если в каком-то месте графита не окажется, воск будет убирать тяжело. Это же как делается? Толщина воска – это толщина бронзы. Когда форму заливают, наращивается толщина бронзы, а внутрь набивается ХТС – определенная смесь кварцевого песка, смолы и кислоты.
Дальше мы работали с восковыми моделями. В этот момент тоже можно еще что-то поправить, что не получилось сделать в глине, исправить какие-то дефекты, получившиеся при формовке. В этот момент мне повезло: как раз была Пасха, литейщики в этот день не работали, поэтому мне удалось переделать навершие шлема Ильи Муромца, доделать еще кое-какие детали. В воске, конечно, мы хорошо отработали.
В.З.: А потом еще и в бронзе пришлось! Например, над лицом казака я здорово поработал.
С.З.: Мы осуществляли авторский надзор, полностью наблюдали за всем процессом. Уходили только непосредственно во время литья – это очень вредное производство. Литейщики работают в масках: пары металлов очень ядовиты. Потом возвращались и смотрели за сборкой. Если что-то получается не так, как нужно, сразу подрезали, исправляли. И вот устанавливают шашку – она отливалась отдельно, уже после фигуры – я перехватываю ее рукой, а монтажник кричит: «да вы что! Она же горячая!». А я даже не заметила (смеется). Руку положила на остывшую бронзу, чтоб ожога не было, и его не было! Потом еще со всех сторон дорабатывали фигуры. Надели очки, чтоб бронзовая пыль в глаза не летела, взяли фортуны с насадками, и вперед! Где-то что-то не нравится – убираем, подчищаем, поправляем. И только потом, когда готовые фигуры пройдут пескоструйную обработку, будут срезаны литники (части металла, оставшиеся на отлитой вещи в месте вливания металла в форму. – Прим. ред.), доделаны самые последние детали, приступают к завершающему этапу – тонировке. Все это происходило в Смоленске на литейном заводе группы компаний «Олакс», директору которого Олегу Александровичу Аксенову и нашей литейной бригаде мы очень благодарны за добросовестность, понимание, готовность помочь. Мы как-то не привыкли просить, помощников у нас нет, всегда сами все делаем, от каркаса до доводки. Потому что если кто-то другой будет делать, он все равно сделает не так.
– Говорят, если хочешь, чтобы было хорошо, делай сам.
С.З.: Да!
В.З.: Многие наши коллеги сами почти не работают, подключают талантливых ребят из числа своих бывших студентов. А я так не могу. Я считаю, что автор должен сам прочувствовать, сам лепить. если кто-то в этот процесс вмешается, я все равно его работу переделаю. Вы можете представить, чтобы лев Толстой сказал кому-то: «Ты пиши, а я потом отредактирую – и в печать»?!
С.З.: Мы должны были вернуться в Краснодар, а две фигуры оставались незатонированными, их должны были тонировать без нас. Мы так переживали, что еще раз поехали в Смоленск, убедились, что все нормально, и тогда уже спокойно поехали домой ждать, когда будет готова стела.
В.З.: А я тогда еще успел чуть-чуть глазик поправить у казака (смеется).
– Оружие и обмундирование героев памятника вы делали, основываясь на каких-то исторических источниках?
С.З.: Что-то делалось по источникам – например, меч Ильи Муромца висит именно так, как должен был висеть меч того времени. А вот в его кольчуге больше художественного, чем документального, потому что настоящая историческая кольчуга в скульптуре смотрелась бы не слишком выигрышно. Так и в остальных образах – какие-то элементы соответствуют реальным, какие-то представляют собой некое художественное обобщение.
– В прессе писали, что памятник Защитникам рубежей Отечества – пограничникам делался по уникальной технологии. О чем идет речь?
С.З.: На заводе в Италии были заказаны плиты из очень красивого зеленоватого итальянского гранита. Там их нарезали по архитектурным чертежам и привезли сюда уже готовыми. К бетону, из которого сделана стела, была прикреплена специальная арматурная сетка, а на плитах были крючки. Эти крючки цеплялись за сетку, затем внутрь заливался бетон, в результате чего получилась практически вечная и очень прочная конструкция с безупречно выдержанной геометрией (именно геометрия всегда страдает при облицовке).
В.З.: На многих памятниках между гранитными плитами, если присмотреться, можно увидеть зазоры в палец толщиной. А здесь они подогнаны совсем вплотную.
С.З.: Мы наблюдали за процессом облицовки и когда просили ускорить его, они отвечали: «Нет. Мы будем делать все по технологии, чтобы ничего не отпало и все было правильно». И мы смотрели, как они один ярус крепят, заливают, потом все должно устояться, и только после этого приступают к следующему ярусу. Тем временем привезли скульптуры, и надо было на стелу надевать венок – у нас там венок из дубовых и лавровых листьев, а в центре него пятиконечная звезда, отсылающая к Великой Отечественной. Монтажникам пришлось ждать, пока закончат облицовку, и потом краном сверху надевать на колонну венок. Когда лепили, мы рассчитали толщину стелы, чтобы венок проходил, не зацепившись, но все равно переживали, ходили вокруг… И тут нам показалось, что строители урезали нам высоту колонны, что-то она низковата. Потому что 18 метров на открытом воздухе – это не так уж и высоко, оказывается (улыбается).
В.З.: Я уже рвался в бой, хотел с ними драться (смеется)!
С.З.: Автор же всегда болеет за свою работу (улыбается). К счастью, начался монтаж герба, высота которого 2,5 метра, и композиция завершилась. По высоте все оказалось правильно. но получилось все впритык: только закончили облицовку, поставили фигуры – и сразу открытие.
– Можете рассказать о будущих работах?
В.З.: Я мечтаю подарить городу памятник Лермонтову. Если только дадут деньги на бронзу, всю работу сделаю бесплатно. Мечтаю поставить памятники Бетховену и другим деятелям искусства. Но пока все это мечты.
Есть и еще один очень важный для меня замысел. Помню, еще в 1990-е годы я всегда возмущался, почему на официальных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной, не звучит песня «Вставай, страна огромная!». И только на параде в прошлом году дали ее не в усеченном виде, а полностью, от первого до последнего слова. У меня слезы льются, когда я ее слышу. Эта песня вдохновила меня на проект памятника, Я хочу, чтобы подрастающее поколение не забывало, какую страшную трагедию пережила наша страна. Я не могу даже сосчитать, сколько у меня погибло на той войне родных дядей: пятеро точно, кто-то еще пропал без вести. А всего их воевало 11. Отец мой был тяжело ранен. Мне говорят: «зачем это вам? Давайте лучше что-нибудь легкое, городскую скульптуру, например». Я отвечаю: «Вы извините, как я могу успокоиться, когда у меня погибло столько родни, и я так переболел этим?». Я не против, пусть кто-то делает легкую развлекательную скульптуру, но сам я, пока жив и пока есть силы, должен воспеть Великую Отечественную.